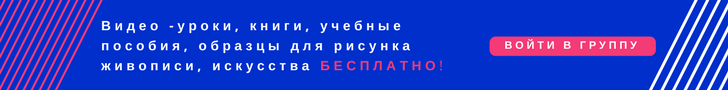Нынешней осенью 85 лет исполнилось Валерию Юрлову — одному из первых абстракционистов в послевоенном искусстве советского времени. Приводим монолог, который он произнес в ответ на просьбу TANR рассказать о важном для себя

Валерий Юрлов. Фото: Fuera de Peru
Когда я поступил в Полиграфический институт, мне просто повезло, что там оказались два-три преподавателя, которые были «отщепенцами». Их нужно было куда-то отодвинуть, этих художников и преподавателей Суриковского института, и они попали в Полиграфический. Там был очень хороший преподаватель, ученик Фаворского Андрей Гончаров, известный художник; был Иван Чекмазов, который преподавал живопись; и был Павел Григорьевич Захаров, преподававший рисунок. Из них троих Захаров как-то особенно заинтересовался мной, когда мне было еще 19 лет. Бывают такие… любимчики, что ли. Он решил со мной почти индивидуально работать — со мной и еще с Володей Колтуновым, очень талантливым человеком, который, к сожалению, покончил с собой молодым совсем. Мы стали такой маленькой группой, даже встречались вне класса. Началось с того, что мы ходили бокс смотреть, и вот так постепенно Захаров приучал нас видеть. Не срисовывать. Толкал к современному пониманию, к современному искусству. Невольно потом ушли к композиции и так далее.
Позднее, когда я стал взрослым и на многое смотрел уже другими глазами, я понял, что это была не его собственная программа, а программа Вхутемаса. Я даже нашел потом эту программу — интересные, на машинке напечатанные отрывки (кто-то записывал лекции). Программу разрабатывала Любовь Попова, и Фаворский там принимал участие, и много кто еще — там был целый клан, включая Кандинского и Родченко. Они разрабатывали план обучения. Основное было у этих людей — решать художественные задачи. Художественные задачи. Не те, какие были в школе у Коровина, у Саврасова, у Юона, а совершенно другие. Потом все это закрылось, и долго ничего такого делать было нельзя. Когда я повесил дома на стену свою любимую работу, «Танец» Матисса (я нашел репродукцию в каком-то старом издании), то некоторые студенты говорили: «Что это такое? Какие-то непонятные уроды кружатся». В принципе, Павел Григорьевич без всяких деклараций прививал нам хороший вкус в целом, не только вхутемасовский.
Я ведь до того учился в художественном училище в Алма-Ате, куда меня приняли в 14 лет. Я занимался у профессора Черкасского в его квартире. И не столько учился, сколько он мне давал обнаженную модель для занятий. Я, когда в институт пришел, считал себя уже мастером, потому что они только со второго курса обнаженной моделью занимались, а я уже голых женщин «прошел». И мое счастье, что Павел Григорьевич меня заставил выкинуть вообще все, что я делал, всю эту школу, училище и прочее. Начал меня учить серьезно, и поэтому мои работы очень отличались.

Валерий Юрлов. Shock Body. 1968. Перформанс. Фото: Nadja Brykina Gallery
Начал я работать в «Детгизе», по сути дела, еще когда учился: в 1954 году впервые я туда пришел. Тогда Борис Дехтерев там был главным художником, он был классик. Кстати, это мне тоже пригодилось, потому что я обратил внимание на линию, на вазопись в том числе, — мне казалось, что это интересная и утонченная графика, я бы назвал ее романтической, но в ней есть свои законы, законы линии. И поначалу в «Детгизе» дело шло более или менее успешно, но постепенно я понял, что от меня требуют совершенно не то, к чему я стремился. С Дехтеревым мы крупно поссорились в 1959 году, и он меня выгнал, потому что я делал не то, что он хочет. И я его понимал. В «Детгиз» потом пришел Кабаков, пришли вот эти ребята, которые младше меня немного. У них появилось соединение слова и буквы, как в азбуке. Такие вещи очень близки к концептуальному искусству, когда слово перерастает в знак того, что мы видим. Они это нащупали, и «Детгиз» обрадовался этим находкам. А я литературой не занимался в таком ключе, больше формообразованием, мне хотелось рисовать кляксы, предположим, делать не прямую линию, а фактурную. Я уже стал заниматься искусством по-настоящему (1954 год — это как раз начало), стал упорно рисовать иначе.
Я настолько этим увлекся, что примерно в 1960 году мы с Захаровым расстались, потому что он совсем не понимал, куда я вышел. Кажется, он даже немного испугался, поскольку я стал делать совершенно абстрактные работы, а он все-таки был из тех, кто считал, что натура — большая основа, что от нее можно к чему-то другому переходить, когда человек уже очень хорошо разбирается в видимой пластике. И я понял, что мне надо от него отодвигаться.
Я блуждал в этих формальных штуках, потому что они бесконечны. Я ведь совершенно случайно набрел на парные формы, причем не знал тогда про инь и ян, женское и мужское начало — разве что совсем немножко. Просто начал чуть-чуть заниматься скульптурой, объекты стал искать, собирал камни для натюрмортов, мертвые и живые формы. Так и произошло открытие, как я считал. Это было в Гульрипше возле Сухуми, где сейчас граница проходит между Грузией и Абхазией. Там довольно пустой берег был и маленький домик — прямо на песке. Я там долго жил в одиночестве, можно было размышлять. Рыбу ловил, рисовал и искал разные вещи, которые выбрасывает море. И я нашел консервную банку, которую разбивает волна. Она ее превращает в совершенно другую форму — здесь такая же банка, но абсолютно новая. А так как я занимался натюрмортами, сравнениями, то просто ставил на стол такие предметы, рисовал и как-то нашел это влияние «было — стало». И принялся этим заниматься, очень наивно сначала. У меня много рисунков таких, причем я их делал сотнями, потому что очень любил рисовать. И пришел к чистым формам. Потом уже понял, что вот, например, Малевич нашел круг, крест и квадрат, как известно, но он нашел их умозрительно, я бы сказал. Вообще, он же чертежник был, любил чертить, а я, смешно сказать, делал такой же вывод путем рисунка.

Валерий Юрлов. Beginn. Dreieinigkeit. 1959. Фото: Nadja Brykina Gallery
Самое простое — это сопоставление именно двух форм, а потом я нашел, как в «Троице», третью форму, которая очень интересна, которая есть промежуток между двумя. Вот одна форма и вот другая, а между ними — форма, которая создается. Формы соприкасаются и начинают взаимодействовать, у них поле есть, как в физике, и это поле становится третьей величиной. Получается своего рода умозрение. В принципе, это такая игра на взаимодействие форм. Тут не наука, а искусство. Все происходит, как у детей, не очень осознанно. Конечно, это радость находки: когда человек рисует, он что-то находит. А если иначе сказать, это сила композиции. Хотя формообразование — область неблагодарная. Потому что ты все время находишь и тут же отталкиваешься от того, что сделал. Идешь в совершенно другую сторону, потому что сама форма подсказывает.
Я много занимался богословием. У меня был период, когда мама умерла. Хотя прежде никогда религией не интересовался. Решил прочесть богословские книги, начиная от Иоанна Дамаскина, у него именно православное мышление. Потом Владимира Лосского читал, довольно сложные книжки. Но там богословие построено не на чувстве литургии, которая часто немножко скучна и не всем интересна, а просто на понятии Бога и понятии всеобщности. И вот потом я нащупал Николая Кузанского. Здорово, что его перевели. Два тома вышли. Второй том у меня настольная книга. Мои работы и размышления о форме и умозрении с этим были очень связаны. Само понятие «богослов», наверное, пугает кого-то, но на самом деле это очень интересно и важно с философской точки зрения.
Под словами «абстрактное искусство» может пониматься разное. Например, когда говорят, что Поллок — это абстрактное искусство, ну так там жизнью надо было расплатиться. Это алкоголь, страшная штука. Это психбольница. Человек себя сам доводит до такого состояния. Позднее психиатры пришли к выводу, что если человек занимается так называемым абстрактным действием, то тут точно или алкоголь, или психушка. Человек не выдерживает этой краски, этого звука. Когда человек выливает банку краски и начинает по ней ходить, он взаимодействует с ней, и получается, что он уже не владеет собой — краска им владеет. А нужно быть готовым к удару и так далее. Основа должна быть заложена.

Работа Валерия Юрлова. Фото: Nadja Brykina Gallery
Я долго жил в разных странах, и мне всегда кажется, что люди, которые занимаются формообразованием, как я, — они прямо родные. Вот Элсуорт Келли (он недавно умер), который делал очень простые, кажется, вещи. Я рядом с ним просто дышу, потому что чувствую, что мы с ним не то что близкие люди, а даже больше. Но когда я вижу лукавство какое-то, то вообще не говорю «плохо» или «хорошо», а просто говорю, что не знаю. Может, потом какой-нибудь искусствовед найдется и выскажется… Я вот очень люблю с композиторами общаться, потому что у них есть партитуры, у них есть шкала, которую они знают от и до, и даже при нарушениях шкалы, как у Шёнберга, они все равно знают, что это такие методы, определенные правила. А если человек занимается абстрактной живописью и не знает, что это такое, он же не может каждый день одно и то же делать.
В Америку я уехал на выставку в 1993 году. Не эмигрировал, но долго там оставался. У меня там было шесть выставок. Это очень много: по сути, через год выставка, причем персональная. А уж разных других, в посольствах или где-то в университетах, и не перечесть! Гранты получал — скажем, от фонда Поллока — и мог платить за мастерскую. До сих пор в Америку отправляю свои работы, хотя много лет уже прошло после возвращения оттуда.
Иногда просматриваю свои блокноты и начинаю обращать внимание на то, чего раньше не замечал. Недавно вот смотрел папки и нашел свои альбомы — мощные по количеству страниц. Одна папка — Франция, другая — Италия, еще что-то. Думаю: «Господи, это, значит, я там все время рисовал?» И смешно, когда я открываю, например, Германию, и это совершенно другие рисунки. Как будто Дюрер. А я ведь ему не подражал, ничего специально не делал. Какие-то рассудочные работы получались, какие-то цифры, знаки. Англия — монохромная, Франция — круглая, Португалия вся в пятнах почему-то. Думаю, если художник куда-то попадает, да еще и надолго, он «окрашивается».

Валерий Юрлов. Время. 2001. Фото: Nadja Brykina Gallery
Я занимаюсь тем, что мне интересно, но могу вдруг — это смешно сейчас будет сказать, наверное, это немыслимо — отказаться от всего, что сделал. Проснуться и сказать: «Знаешь, Валера, времени мало осталось все равно, но, наверное, это все чепуха». Но я держусь, потому что само сознание — это моя форма, одна из стабильных форм. Когда занимаешься такими вещами, ты как будто входишь в тоннель и показываешь, что там. А люди часто не хотят этого видеть, потому что они же в тоннеле не были, они туда не ходят, поэтому их надо туда ввести и показать. Это трудно. Вот искусствовед Марина Бессонова была моим другом, она понимала, чем я занимаюсь. Поэтому ее смерть для меня была особенно большой потерей. Потом Дмитрий Сарабьянов умер. А с молодыми ребятами как-то не могу найти общий язык, хотя мне всегда интересно, что происходит. А когда человек интересуется, он находит. Я всегда, особенно за границей, когда бываю на выставке, то нервничаю, думаю: «Сейчас что-то увижу такое». Хотя редко бывает, когда прямо попадаешь и думаешь: «Ну здорово, настоящее что-то!»
Источник: theartnewspaper.ru