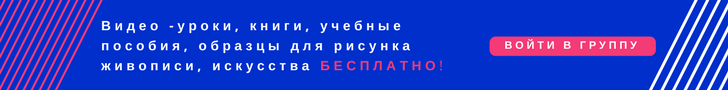В Новой Третьяковке проходит выставка Вадима Космачева «Дыхание скульптуры». В интервью TANR он рассказал о сотрудничестве с Львом Нусбергом и Михаилом Рогинским, будущем скульптуры и перформансах в Кремле

Вадим Космачев. Фото: Kosmatschof projects
Как возник ваш интерес к скульптуре?
Мой отец — офицер военно-воздушных сил. С аэродромами я был связан с самого раннего детства. Во время войны мы, дети, играли на разбитых самолетах, как на детских площадках. Их складировали где-то в углах этих больших аэродромов. Играть в них было невероятно интересно. Можно было играть в прятки, вытаскивать какие-то части и делать из них машинки, ведь игрушек в войну не было. Это сильно повлияло на мой интерес, во-первых, к технике и, во-вторых, к формам, к конструкциям, потому что самолет, если на него изнутри посмотреть, — это огромная конструкция, обтянутая алюминием. Как на Татлина, кстати говоря, повлияло то, что он был матросом на корабле и плавал по Средиземному морю, среди мачт, среди вант, среди вот этих конструкций.
Почему вы стали специализироваться именно на публичной, монументальной скульптуре?
Почти любой скульптор мыслит сделать что-то такое, что превосходит его собственный рост. Это какой-то биологический закон, наверное. А если к тому же скульптура еще и занимает общественное пространство, то есть она постоянно на виду, на сцене, то она должна соответствовать этому пространству. Значит, надо уметь понимать, что такое масштаб, как скульптура себя ведет в том или ином окружении. Это может быть дано или не дано, как у музыканта может быть слух, а может — абсолютный слух. Если художнику дан вот этот «слух», фигурально говоря, вот это чувство формы и чувство масштаба, он становится автором форм, которые могут жить в пространстве города или большого интерьера.

Вадим Космачев. Скульптура «Сердце города» на выставке в Новой Третьяковке. Фото: Kosmatschof projects
Ваша первая большая работа, установленная перед библиотекой имени Карла Маркса в Ашхабаде, очень отличалась от канона советской монументальной скульптуры. Как реагировали на нее власти, местные жители?
С самого раннего возраста, благодаря открытым в 1956 году дверям запасника Третьяковской галереи, знакомству со спрятанными произведениями русского авангарда, я пришел к пониманию задачи скульптора как творца форм, как творца ритмов. Как творца, не связанного с содержанием, не иллюстрирующего ничего. А советское искусство, как левое, так и правое, было иллюстративным. Только одни иллюстрировали, скажем так, лозунги политические, а другие — антиполитические. Я не хотел в этом участвовать. Так я пришел к этой скульптуре. Когда власти увидели ее, они хотели ее разобрать. Партийный аппарат республики вызвал для объяснений двух видных московских архитекторов — Феликса Новикова и Юрия Гнедовского. Они придумали, что эта конструкция представляет собой древо жизни, которое символизирует преемственность культур. Известно же, что Ашхабад возник на обломках Нисы, столицы Парфянского царства. Это произвело на чиновников очень хорошее впечатление. В народе скульптуру почему-то прозвали «Музыка в металле». Мне рассказывали, что среди необразованных туркменских женщин возник миф, будто, сидя около этой скульптуры, можно излечиться от бесплодия. Говорят, туркменки по нескольку дней сидели и бдели около нее. До сих пор эта скульптура стоит в Ашхабаде. Все советские памятники разобрали и уничтожили, а этот сохранился. Делали его по моим эскизам на зоне, поскольку другие производства были заняты другими заказами. Зэкам обещали скостить за это срок, но обманули! Видимо, из-за того, что скульптура не понравилась властям.
В 1950-х вы делали перформансы вместе с Львом Нусбергом. В чем они заключались?
Их делала целая группа молодых художников. Мы учились тогда в Московской средней художественной школе (МСХШ). Был 1956 год, открылась выставка Пикассо, доступ в запасники Третьяковской галереи со всем калейдоскопом сцены авангарда 1912–1935 годов. Такая пора надежд. На этом фоне наше обучение, немножко суконное, в духе соцреализма, казалось нам очень кондовым. Мы, некоторые ученики, стали искать возможности себя проявить в каких-то действиях. Одним из этих действий были различные формы дискуссии со зрителем. Мы называли их «Лекции натощак». Они проходили в Кремле. Его только-только что открыли для публики, там еще чувствовался звон сапог покроя 1930-х годов. Мы пытались построить такую форму абсурда, который оттенял бы официальную форму абсурда. Мы объявляли, что даем бесплатные лекции. За несколько минут мы обрастали кучей народа, человек в 30–40. Мы импровизировали. Допустим, Юра Косачевский начинает, потом у него заканчивается воображение, вступает Нусберг, потом у него кончается — я продолжаю, подхватываю.

Вадим Космачев. «Сердце 1». 2005. Фото: Kosmatschof projects
И о чем же вы рассказывали?
Например, были лекции около Царь-пушки. Она нами декларировалась как военное орудие, которое сыграло самую главную и положительную роль в октябре 1941 года, когда враг стоял у самых ворот Москвы. Царь-пушку выкатывали к устью улицы Горького, тут же привозились на полуторке огромные снаряды, пушка заряжалась и ожидала наступающих танков Гудериана. Допустим, Нусберг описывает все это, потом вступаю я: «И как пишет Гейнц Гудериан в своей знаменитой книге „Ахтунг — панцер!“ („Внимание, танки!“), он, узнав об этом, задумался, стоит ли с ходу брать столицу или подождать. Вы только представьте себе это ядро и соедините его с танком! Не надо быть военным, чтобы понять результат. Танки разлетелись бы, как мухи от снежного кома! Гудериан потерял время, и это было очень важно для обороны Москвы». Были у нас даже лекции в Успенском соборе — рассказ о том, как Никон, подлец-Никон, который устраивал переворот в православной церкви, уже подготавливал не только клир, но и агентов тайного приказа к этому предательству. И он пользовался тогда уже известными, невиданными техническими средствами — телефонными аппаратами. И когда спрашивали: «Как, ведь еще не было электричества?» — мы отвечали: «А вы знаете, как дети играют? Берут две коробочки, и, если между ними нитку натянуть, все слышно».
И вам это сходило с рук?
Однажды две очень интеллигентные на вид московские старушки выступили вперед и сказали: «Молодые люди, какую вы несете чушь!» Мы извинились перед публикой и сказали, что в Москве, к сожалению, еще очень много невоспитанных людей, в частности эти пожилые женщины. В семье, мол, не без урода. В общем, начали как-то выкручиваться, уже понимая, что надо уносить ноги. Мы быстро завершили лекцию и пошли в сторону Кутафьей башни. Через 40–50 метров нас останавливают. Очень солидный барбос в штатском спрашивает нас, на каком основании мы проводим такие общественные мероприятия и несем вот эту ахинею и чушь. И говорит своему подручному: «Вызывайте машину». Тут проявились невероятные актерские способности Нусберга. Он пустил из левого глаза слезу и сказал: «Товарищ полковник, поймите, мы молодые художники! Багаж наших знаний невелик. Но теми знаниями, которые мы получили, хоть они и неполные, мы хотим поделиться, как можем, с обществом». Полковник, видя его искренность, смягчается и посылает нас катиться ко всем известной на Руси матери. И предупреждает, что, если он еще раз нас тут увидит, никакая мать нам не поможет.

Вадим Космачев. «Дышащая форма» на холсте. Фото: Kosmatschof projects
Ваше сотрудничество с Рогинским тоже началось в Москве?
Нет, в Москве мы с ним преподавали в одной художественной школе на Кропоткинской, с 1964 по 1966 год. Тогда и познакомились. Совместный проект у нас был уже в Австрии — участие в выставке «Энди Уорхол и русские» в арт-резиденции «Фишерпарк» под Веной. Мы (Вадим Космачев и его жена, художница Елена Конева. — TANR) попали туда после отъезда из СССР. Я показал там серию «Визы», посвященную перипетиям нашего выезда из страны (разрешение нам дали не сразу, сначала три года отказывали). В выставке участвовали мы вдвоем, и еще я пригласил Мишу Рогинского из Парижа, потому что нам сказали, что два русских художника — мало, нужно хотя бы трое. Нас поселили в доме, где раньше жили фабричные рабочие; там не было ни воды, ни канализации, на кухне зимой замерзала вода в ведре. Приехав к нам, Рогинский сказал, что мы живем, «как клошары парижские».
На вашей выставке в Москве есть модели скульптур, которые сами обеспечивают себя энергией. Что, на ваш взгляд, современные технологии могут дать этому виду искусства?
Я уже давно разрабатываю идею скульптур, реагирующих на различные природные обстоятельства. Например, излучение солнечной энергии. Она может трансформироваться в электрический ток или менять цвет скульптуры — в Америке изобрели пигменты, которые меняют свой цвет, реагируя на ультрафиолетовое излучение. Смысл моих проектов, связанных с биоконструктивизмом, в том, что и скульптуры, и бытовые предметы в будущем будут создаваться по программе. Так, как возникают живые организмы. Возьмем простой пример. Что такое сперматозоид и яйцеклетка? Какие-то совершенно непонятные субстанции. А потом из них возникаем мы — с костями, с головой, с волосами и со всем прочим из-за того, что в гене заложена эта программа. Одна из моделей моих «Дышащих форм» напечатана по программе на 3D-принтере. Уже есть дома, которые так печатают. Будут и автомобили. Это совершенно другой принцип — не принцип выделывания на токарном станке деталей, которые потом соединяются друг с другом, как вагоны в поезде. Таков был принцип производства XIX века, да и всей истории существования цивилизации. Но скоро все будет по-другому: вещь будет создаваться не путем обработки на вращательном станке, а будет расти сама, так же как растет из сперматозоида и яйцеклетки человек.
Новая Третьяковка
Вадим Космачев. Дыхание скульптуры
До 19 августа
Источник: theartnewspaper.ru